Семен Стус привез в Сталино младших детей — 3-летнего Васыля и 4-летнюю Марусю — на Пасху 1941 года. Отец забирал детей неслучайно, его жена, Елина, категорически отказывалась возвращаться на родину: «Я уже не хочу туда ехать. Уже там нажились мы, хватит с нас».
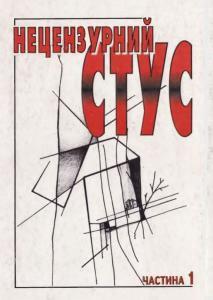
Причиной была не только неуемная боль и обида на рахновских: накануне менингитом заболела старейшая дочь — Палажка. Тогда от этой болезни мало кому удавалось вылечиться, а жизнь в грязном и ограниченном пространстве барака изрядно способствовала распространению инфекционных заболеваний. Семья имела небольшую отдельную комнатку «в поселке шахты сто семь...»
Переезд и радость были омрачены трагедией: пока Семен ездил за детьми, его жена работала, а невыход на работу жестоко карался: «ушла на работу в ночь. Прихожу оттуда и иду к той бедной девочке, лежащей в больнице. Там день работаю, а ночь сижу возле ребенка. Это пошла я, а завтра Пасха. Ушла я на работу, а прихожу с работы, а он уже с этими детьми дома. Приехал, привез. Да и говорит: "Набрался я с ними"... Они его не признают. Я только, говорит, привел их сюда – снова убегают. Я ему и говорю, что так и так, что ребенок, дочь, в больнице и без памяти. Ушел, отправил ее в другую больницу, и она там Богу душу отдала, на второй день Пасхи уже...»
Могилка сестры не сохранилась. После входа немцев в Сталино рядом размещалась немецкая воинская часть. И местные «боялись идти на кладбище, – вспоминала мама В.Стуса, – потому что два парня шли с кладбища, немцы их убили. Нет права ходить. И так мы не ходили, и так мы не знаем до сих пор, где она похоронена. Замесили там, затолкали».
Память малого Васыля Стуса сохранила другие впечатления: «Помню, как меня в 1941г. папа вез на Донбасс вместе с Марусей. До сих пор помню, как пахло в вагоне». Все, что запомнилось, – запах!
Эта черная Пасха была не единственным огорчением, запомнившимся на всю жизнь: «Помню, как смеялись женщины донецкого барака, когда я хвастался, ходя в длинной рубашке: “эту рубашечку мне бабушка сшила, с карманом» — говорил я, а им было почему-то отрадно».
Семья упорно не адаптировалась к среде. Тогда, в 1941-м, еще до войны родители предприняли первую – неудачную попытку – взяться за сооружение собственного дома. Землю им выделили по ул. Ударной. Но война не позволила построиться. Несмотря на все донбасские беды, о возможности возвращения на Винничину не думали, потому что, как говорила Елина Стус, в Сталино «нас такое горе загнало...»
Васыль Стус так вспоминает начало войны: «Помню начало войны, как отступали наши. Сосед-татарин зарезал лошака – хорошего, молоденького – на моих глазах перерезал горло. Я плакал – так было жаль. А уж как он, сосед, хотел меня накормить мясом тем (воняло на весь коридор!) — я рыдма рыдал, чтобы не заставил творить такой грех: есть хорошего жеребенка.
Помню кроликов, которых мы держали во время войны. Почему-то сдохли – еще слепые. Трупики лежали в болоте - ой, как мне было грустно! Тогда я не хотел жить – так было горько и грустно – за кролями!»

На протяжении 1942-43 годов для того, чтобы выжить, родителям Васыля пришлось менять на продовольствие все, что имели. «Менять ходили папа со старшим сыном Ванечкой», - говорит Мария.
1944 - новая беда: погиб брат Иван.
Васыль Стус: «Помню, как в 1944 г. мы сажали кукурузу на поле, выкапывая полынь по целине. Я набросал зерна в ямки, а мама (бабушка Елинка) и брат Иван копали… Помню, как ранило брата Ивана. Как он лежал – с отбитой ножкой левой и вырванной осколком левой щечкой. Спал, когда мы с мамой нашли его. “Это на меня звезды с неба посыпались" — сказал он, когда мама, не уронив слезы (оцепенело сердце ее), разбудила его и прикладывала ножку, словно ножка еще могла прирости. Больше он не приходил в сознание.
Я пришел домой один, там была Маруся. Ой, как я не хотел ей говорить о беде! А когда мы взобрались с ней на окно (может, выглядывая родителей), я набрался смелости и рассказал ей, что произошло с Иваном. Плакали оба, а через несколько часов Иван умер. Ему было 15 лет... Помню, как меня подвели на кладбище к телу в последний раз поцеловать. А я видел только родинку на правой щечке его и не хотел, совсем не хотел — ни целовать, ни прощаться — с Иваном и его родинкой».
Тот же эпизод по воспоминаниям сестры Марии: «Тогда после войны занимали огороды. Земля была целинной. Ту целину копали. Брали десять-пятнадцать соток. И на этой целине сажали. То кукурузу, то картофель. Что имели... Тогда мама ушла и Ванечка... заняли участок, а пошли туда другие люди. Мама говорит: "Ванечка, ты пойди вернись и скажи, что мы здесь заняли место". Ведь они еще... только... словно обозначили... И он вернулся. А там было после войны... воронки... Ямы такие. И в этой яме мальчишки разряжали бомбу... И когда он только сравнялся... взрыв. От одного разряжающего мальчика только куски нашли. И другому, говорят, голову снесло, а туловище бежало еще. А у Ивана щеку вырвало, в сердце попало и ножку оторвало. А мама как увидела... не могла даже представить как-то сгоряча, что это ее сын. А он говорит: “Мамочка, не плачь. Это судьба моя такова”. Он это сказал, а она как заплакала. И у нее тогда очень сердце заболело. Тогда вызвали скорую помощь. Пока еще вызывали. Это же в поле было... И его забрали. Несколько часов еще жил. Три или четыре, или пять».
Осенью того же 1944 года Мария пошла в 1 класс. Единственное, чем увещевал ее папа, были слова: «Не будешь учиться — пойдешь на железную дорогу кайлировать». Родители до первых заморозков даже не догадывались, — целыми днями на заводе были, — что за ней в школу побежал и Васыль. Потом они все десять лет так и учились в одном классе.
Позже, оглядываясь на свою жизнь в этих неприкосновенных и взаимопроницаемых кругах-мирах, поэт напишет:
Ти — посеред. Між двох своїх світів пливе мій човен. Де не скину оком — по праву руку — крутояр і рів, по ліву руку — темно і глибоко. Так мудро нас страждання піднесло понад плавбою і понад добою. Пускай на воду зламане весло, і стань, уже безпам’ятний — собою.
[Ты — посреди. Меж двух своих миров
плывет моя лодка. Где не брошу взглядом —
по правую руку — крутояр и ров,
по левую руку – темно и глубоко.
Так мудро нас страданье вознесло
сверх плаванья и сверх эпохи.
Пускай на воду сломанное весло,
и стань, уже беспамятный – собою.]
