
*Нас сегодня собрал не день рождения Поэта, но память о его гибели, и значит все, что мы будем говорить окрашено в черный цвет, пусть и прозрачный по краям, но главное насыщенный в центре. Это энергия смерти, энергия, которая очень сильна, велик, широк размах ее крыльев, жаль только, что полет этот не вверх, а вниз, перевернутый полет.
Часто говорят – человек открыт миру, имея в виду, что человек любит жизнь, любит ее цвет, запах и вкус. Человеку хочется жить, и это настойчивое чувство зачастую подменяет саму жизнь. Любить жизнь естественно, осознавать ее как дар – что ж, все так. Но когда я говорю об открытости, я подразумеваю степень доверия к миру, распахнутость, то состояние, которое возможно только в раннем детстве. Только так можно удивляться, только так можно звучать на одной волне с речной волной, с ветром, с птицей,
стоящей в небе. Только так можно прожить свою собственную, незаемную жизнь. Но здесь и опасность – человек, живущий на ветру, на весу, человек, беззаветно открытый своему времени, почти всегда обречен; не потому что он делает что-то не то, нет – потому, что он один делает то, что нужно на самом деле, и не понимает, почему этого не делают другие.
* Кто такой Василь Стус? – кто-то сказал, что Стус тот, кто просто оказался не в том месте и не в то время. В определенном смысле это правда – не в той стране, не в ту эпоху; сужая параметры – не в тот кинотеатр вошел и т.д. и т.д. Я сознательно сужаю рамки времени и места, с единственной целью – показать, что не было никаких «малых» времени и места у Василя Стуса – здесь иной масштаб - целый век – ХХ – в начале которого ушел Лев Толстой, по краю которого ходил Райнер Мария Рильке, век, в котором чудил, играл, творил Пастернак. Края столетия размыты и непросто понять, где его центр: две мировых между которыми одна революция, ставшая, по сути, предтечей мирового перераздела. Именно Василю Стусу, стоящему на окраине века, было суждено вписать итоговые, окончательные слова, опустить занавес и… включить свет – сцена закрыта, но зато стали видны лица зрителей. Вот кто-то встает и старательно пробирается к выходу, прикрываясь рукой; кто-то остается сидеть, кто-то требует прекратить безобразие – что требовать? – занавес опущен, слова сказаны.
* И что теперь спорить: любят или не любят в Украине своих поэтов? Чтобы любить, нужно быть включенным в орбиту слов, отстоящих от своих прямых, словарных значений, нужно причаститься книжной, письменной культуре, которая не всегда одно и тоже, что культура песенная. Дело не в противостоянии и даже не в раздвоении; создатель песни, народной песни сущность трагическая; некий сельский чудак-человек, заглядывающийся на звезды, улавливающий те же волны, что и Гете, и Шиллер, но не умеющий ухватить их, облечь в единственно возможную форму. То есть форма существует сама по себе, как бы сама собой, передается по наследству от одного безымянного певца к другому, не претерпевая существенных изменений.

* Иное дело - разрыв между гением и современником, они и по смыслу не согласуются. Гений – не степень дарования, не качество версификации, (если мы говорим о поэте), – гений – дух реки-речи, добрый дух, соучаствующий в творении мира. Людей, допущенных к этому творению единицы и здесь – одновременность присутствия в своем реальном времени и во времени вообще, когда и времени как такового не существует. Что до современника, то он, если конечно не перерастает себя, обречен пребывать в зазоре между прошлым и будущим, двигаться механически, будто и вправду заведен – от стенки к стенке. Трагично, если мы говорим об одном человеке, привычно, если разговор идет о целой эпохе. И здесь не столько зазор между прошлым и будущим, но разрастающаяся дистанция между гением Василя Стуса и его временем, его народом.
*Усилия, затрачиваемые на то, чтобы сделать Василя Стуса народным поэтом, заслуживают – нет, не восхищения – диагноза. По сути дела, происходит адаптация, некий упрощенный взгляд, упрощенный сознательно. Да, Василь Стус жил в реальном времени, среди реальных людей. Да, Василь Стус не только великий поэт, но и великий гражданин той страны, которой тогда не было, той страны, которой, по всей видимости, нет и сейчас. Может быть, потому и нет, что мы говорим об участи, не о судьбе, потому и нет, что миллионы сограждан еще не открыли поэта Василя Стуса, не с тем, чтобы дорасти до него, но чтобы перерасти себя самих. Народным Василь Стус станет лишь тогда, когда его народ научится читать, сначала медленно, по слогам, многого не понимая, но чувствуя многое, опираясь на поплавки-смыслы, на знакомые слова, которые, оказывается, могут звучать – так звучать – на одной волне с Райнером Мария Рильке, с Толстым, Пастернаком – на одной волне с миром – истинным, единственно возможным. Вот тогда и только тогда Василь Стус станет воистину народным поэтом.
* Вспомним школьную задачу, когда известно, например, время и расстояние и требуется узнать скорость; или же, известны скорость и расстояние и т.д. Предположим, что время – это длительность звучания отдельного звука, слова, строки, шире – стихотворения. Время звучания не в метафорическом, но буквальном значении, и здесь же, всё пространство стиха, понимаемое как расстояние, на которое продвигается звук, образ, идея. Соотношение длительности строки и длительности ее звучания образуют скорость прохождения этих самых звука, образа, идеи; если угодно, скорость – это индивидуальный код автора, сродни группе крови; изменения возможны в определенных параметрах. По сути, мы говорим о частоте излучения, присущей всему живому, следовательно, присущее стихотворению, как одной из высших форм жизни. Всякая неточность, фальшь, искусственность порождают имитацию жизни, ее подобие. Бывают эпохи, когда подобие жизни предпочтительнее самой жизни, когда первоисточник становится чем-то вторичным, куда значимее адаптированные версии.
… Возможно, Василь Стус был бы сегодня таким же инородным телом как и 25 лет назад, только уже по другим, не только и не столько мировоззренческим, сколько эстетическим причинам, подтверждая ту мысль, что мировоззренческий и эстетический конфликты, суть, одно и то же.

* Вспоминаются слова А.А. Ахматовой: «Нелепость, что одними и теми же словами и чай зовут выпить и пишутся стихи. Несоразмерность великого и обыденного? – нет – дело даже не в этом; слова, вспоминаемые для чего-то, например, для того, чтобы позвать к чаю и слова от чего-то – уже другие слова, отслаивающиеся от своих словарных значений, выходящие из-под опеки здравого смысла. На каком языке говорил Василь Стус? И говорил и писал на украинском, но каком-то другом украинском. Если даже говорение на своем языке становится чем-то необычном, вызывающим, выходящим из ряда вон – слова обретают сакральное, не бытовое значение.
Слова – суть поступки поэта, и значит можно поставить знак тождества между человеком и поэтом Василем Стусом, между Василем Стусом, говорящим и пишущим, другими словами, между замыслом и его воплощением. И здесь же абсолютное одиночество, когда собеседником становится текст, а не реальный человек. О чем человек, о чем книга?
* И вот идет Микола Зеров, звонит в колокольчик сонета, подбирает, собирает украинские слова в речевой поток. Это ведь не от кабинетности, не забавы ради – а задача ясна – как сделать так, чтобы украинская речь натянулась, как вода на течении, разогналась, распрямилась. Для этого ее сперва следует структурировать, пропустить через жесткую форму сонета, в которой как два берега и внешнее сжатие (определенное количество строк, тип рифмовки и пр.) и внутреннее, доводящее звук-смысл до сонетного замка, хочется сказать замка. А кто в том замке-тереме живет?
…Чем не встреча двух поэтов, двух интеллектуалов, двух абсолютных одиночек.
*И еще Рильке… Почему он? – ответ, думается очевиден. Рильке умел дистанцироваться, отстоять на расстояние в один человеческий жест – это движение руки предполагает не удар, но руку помощи, точнее, ее возможность. Поэт как бы очерчивает круг внутри которого творится заповедный мир, нуждающийся только в одном – в неприкосновенности. Поэзия Рильке вне легенды, ибо легенда (по определению), то, что должно быть рассказано, что нужно знать. Рильке умел уклоняться от этого знания, оставаясь в стороне от магистральной риторики. Впоследствии, национал-идеологи не знали, что делать с наследием поэта. Чувствуя качество отстояния, дистанцию, они, не умели ни использовать его строки в своих целях, ни запретить. Вроде и запрещать было не за что – так и стал Рильке поэтом для немногих здравых, таким себе окном в «последнем домике прихода».
Рильке, писавший на нескольких языках, одновременный житель нескольких стран, а значит ни одной, Рильке – одиночка, пример вещи в себе, точнее света в себе, саморазгорающегося, не требующего ничего кроме самого себя - вечный двигатель, вопреки всем законам физики.
Именно такой поэт, должен был стать примером для Василя Стуса, несмотря на всю разность обстоятельств, ситуаций, различия эпох, а может быть, именно благодаря этим отличиям, как бы вопреки им. И здесь два момента: первый, интуитивный выбор самого Василя Стуса, его обращение к Рильке, и второй, куда более важный – Василь Стус завершает ХХ век монологом, завершает вне узнанности, понимания, вне осознания окружающими масштаба творимого. Василь Стус, гражданин несуществующей Украины, сомнительный гражданин Советского Союза, отстоящий от всех магистральных путей, оказался тем, кто стал вершинным звуком, смыслом второй половины ХХ века.
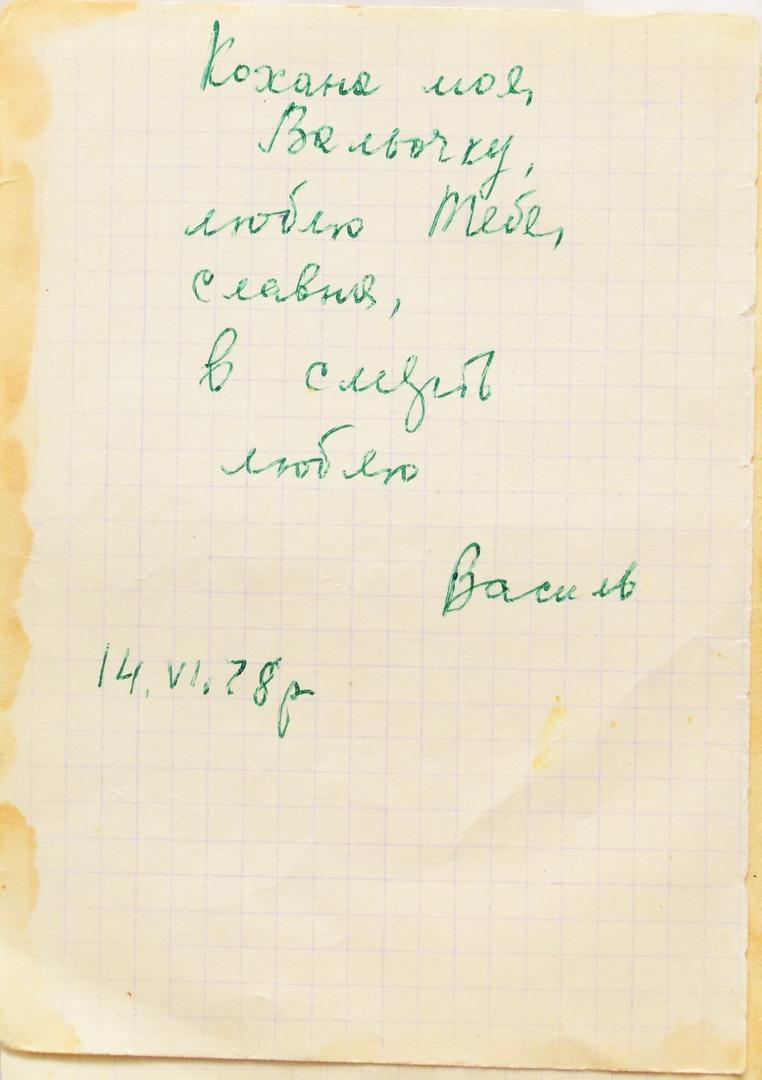
* Даже если ХХ век не догадался об этом … – слишком много как бы открытий, как бы откровений. Незаметным, неважным прошли люди-эпохи, люди-события, явления. Вот и с книгой так, точнее, идеей книги. В конце 19 начале 20 настойчиво звучал вопрос: как в поэтическом тексте передвигать образ на большие расстояния, не увлекаясь сюжетом, не впадая в прозу. Именно прошлый век, отвечая на этот вопрос, ввел, по сути, новый жанр – книгу стихов; не сборник стихов, объединенный хронологией, темой или даже настроением, но книгу, читаемую от первой строки до последней, разворачивающейся на 180 в свой собственный, как бы здесь и сейчас возникающий мир. Что-то подобное было и раньше, например, в русской литературе «Сумерки» Баратынского или «Вечерние огни» Фета, но
отсутствовало необходимое условие – человек, понимаемый как текст, читаемый как книга. Василя Стуса непросто читать и дело вовсе не в фигуративности, усложненности или герметичности, требующей комментариев. Комментировать можно жизнь и поступки, отдельно – сопровождать словами текст, но когда человек и текст совпадают, комментарии лишаются опоры, становясь лишними словами, выведенными за скобки. Сложность прочтения Василя Стуса в том, что его необходимо читать всего, а не отдельные стихотворения, всего, зная, что многое не сохранилось, все же, читать так, будто читаешь от первой строки до последней. Только так возникает состояние Книги, книги нового времени, как самостоятельного жанра, вещи в себе. Дробление на цитаты, отдельные стихотворения нарушают целостность не текста – нет – нашего восприятия.
*Михаил Светлов любил повторять, что поэт может прожить без необходимого, без лишнего прожить не может. Продолжая эту мысль – общество не может прожить без необходимого, что же тогда лишнее – не в значении лишние люди, герой нашего времени и пр. – нет, в значении ненужные, в смысле, бесполезные. Первыми в этом списке поэты.
Хорошо, если на стихи поэта пишутся песни – здесь возникает стыковка с реальным. А если нет, тогда возможны лекции, переводы, попытка, понимаемая как необходимость стать нужным здесь и сейчас. Дело не в материальном – вовсе нет. Человек, соучаствующий в творении мира, помнит, что он – участник, т.е. он часть мира, главная или второстепенная, но неотъемлемая часть. А ему говорят, что он лишний, не нужный, бесполезный. А ему пытаются внушить мысль, что он не созидатель, но разрушитель устоев, сложившихся представлений, он тот, кто мешает, он – рыбья кость в горле веселой, зовущей на труд и подвиги песни. И это самое тяжелое испытание для поэта – не подпасть под лукавое обаяние эпохи, не принять общую логику, не смириться, но выстоять, опираясь на что? – на воздух, на звук, разрастающийся, еще невнятный звук, на зарницы будущих слов, на будущее само по себе, абстрактное, может быть, или уже обретающее черты, приметы человека, сидящего в университетском сквере с томиком стихов, а на обложке имя – Василь Стус «Палимпсесты».
… И пусть мы живем поверх текста, но, хочется верить, что текст, просвечивает сквозь нас.
*Мы не просто оставляем оттиск. В некотором смысле мы сами и есть оттиск. И наши дела, и наши поступки, вплоть до последнего оттиска в земле или еще как-нибудь. Убежден, что будущие поколения смогут восстановить не только наши образы, представления, фантазии, но и нас самих, если захотят, конечно. Подобно тому, как оттиск звука, запечатленный на восковой доске, способен прозвучать еще и еще – крутится виниловый диск, говорят, поют, плачут, смеются те, кто уже давно ни плачет, ни смеется.
Слово Поэта – единство цвета, звука, идеи и еще чего-то, что апеллирует не к физике, а к тому, что мы называем чудом. Все присутствует в этом слове, все, что и есть жизнь, вот почему физический уход, физическое отсутствие не принимается ни сердцем ни разумом. Человек, воплотившийся в слове, не умирает, не может умереть. Он – часть реки-речи, он тот, кто оставил свой оттиск на повороте, когда река близко подошла к берегу, так что не различить, где начинается вода, где кончаются ил и песок. Мы читаем слова, мы движемся в этом потоке имя которому Василь Стус, и вот уже не он, а мы оставляем оттиск на этих словах, мы смешиваемся с речевым потоком, незаметно для самих себя, становясь его частью. Так начинается музыка, не та, которую слышим мы, но та, которая слушает нас. Это вовсе не значит, что под эту музыку не танцуют, не плачут и смеются, не признаются в любви. Да мы и не должны ее слышать – мы оттиск на восковой пластине, а музыка где-то там, где нет одиночных камер, предательства, подлости – только чистый звук, прямой жест, слова, возникающие как будто из ниоткуда. Но мы то знаем откуда родом эти слова. Из села Рахнивка, что на Виннитчине, где на Рождество, а как иначе, появился на свет мальчик по имени Василь. И вот он жил и никогда не умер. И никогда не умрет.
Аминь.
